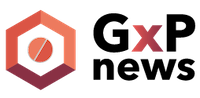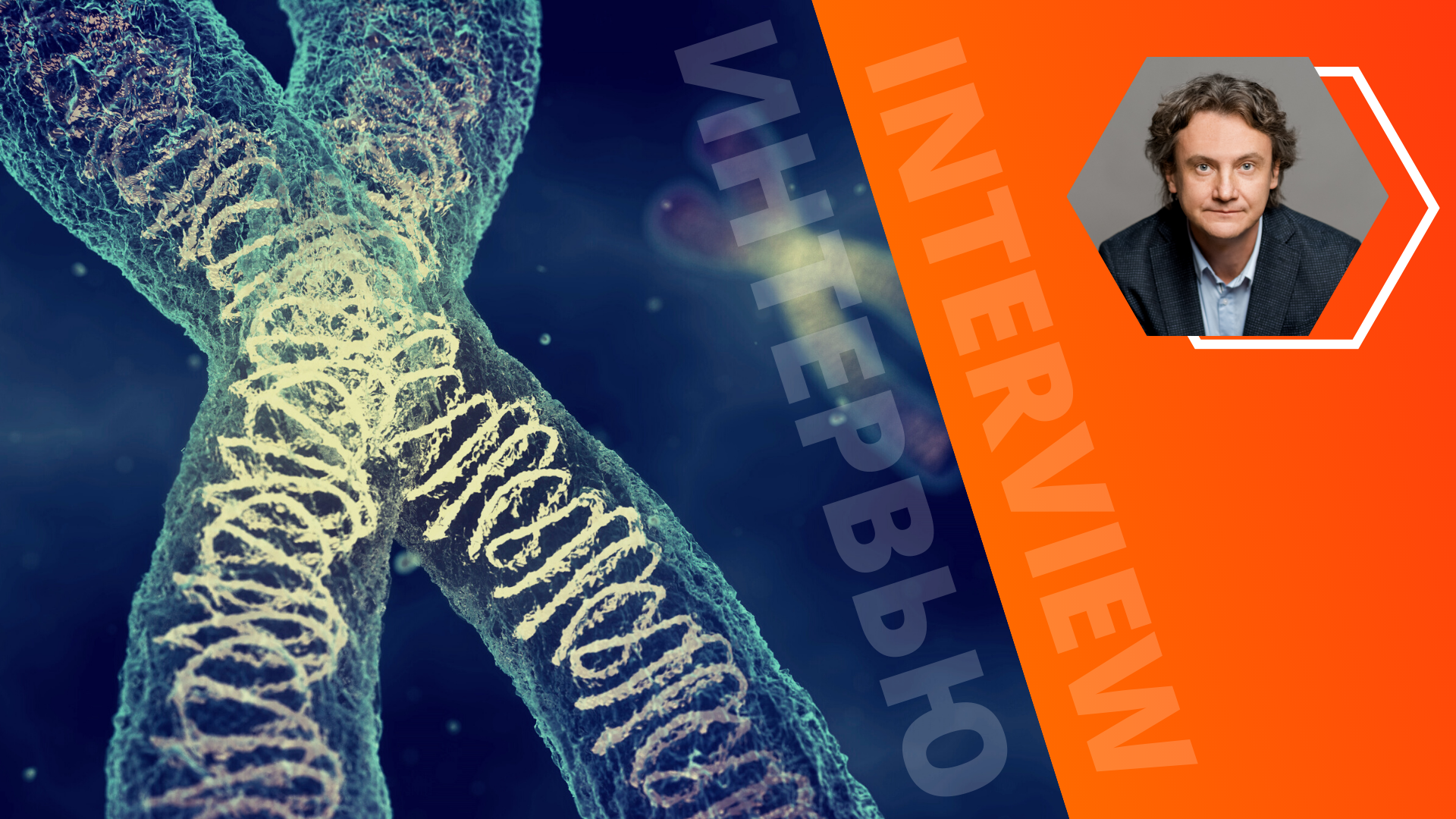Учёный-генетик Павел Волчков развивает проекты в области генной терапии в двух странах. В России — в НИИ Персонализированной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ и лаборатории геномной инженерии МФТИ, которые возглавляет. В США — в нескольких профильных стартапах, где участвует как партнёр и идеолог. В интервью GxP News он рассказал о том, куда движется мировой рынок генотерапевтических препаратов, как американские регуляторы стимулировали рынок разработок и как к их создателям относится бигфарма.
— Для начала определим, все ли генотерапевтические препараты предполагают вмешательство в геном?
— Нет. С чего начиналось развитие генной терапии? У пациента, страдающего генетическим орфанным заболеванием, есть аутосомно-рецессивная мутация. Примерно в 70 % случаев её можно починить, сделать «заплатку», доставив в клетки функциональный ген. Наиболее распространённый сейчас метод доставки — с помощью аденоассоциированных вирусов. Но его использование исключено, если ткань обладает высокой обновляемостью. Именно по этой причине значительное количество генотерапевтических подходов сосредоточено в офтальмологии: сетчатка — это дифференцированные клетки, которые не делятся. Такая же ситуация с клетками центральной нервной системы.
В научном сообществе существует заблуждение, что аденоассоциированные векторы на основе аденоассоциированных вирусов интегрируются в геном. В этом уверены многие крупные учёные, даже генетики. Векторы на основе аденоассоциированных вирусов не обладают таким действием, поскольку лишены интегразы, фермента, который катализирует включение ДНК вируса в хромосому клетки-хозяина.
А вот другая часть генной терапии, которая в последние годы получает всё большее развитие, как раз предусматривает редактирование генома аутосомных клеток человека. В этом случае вместо функциональной копии гена вы доставляете другой ген, который и будет редактировать геном. Редактором может быть фермент нуклеазы на основе «цинковых пальцев» и другие ферменты. Такой подход может применяться для тех частей организма, где клетки делятся, а ткани регенерируют.
Пока в этой области успешно идут эксперименты в клетках ex vivo, но непосредственно in vivo редактирование получается низкоэффективным. Сейчас проводится много клинических исследований подобных технологий, но мы в самом начале пути.
— Генная терапия предназначена только для лечения генетических заболеваний?
— Формально — нет, но, как правило, речь идёт именно о них, потому что для генетических заболеваний других видов терапии не существует. Любой эффект, который показывают генотерапевтические препараты, по сути, сравнивается с нулём. Это удобно: когда вы предлагаете лечение в отсутствие каких-либо аналогов, регулятор не может сказать нет, даже если ваш препарат даёт улучшение всего на несколько процентов. А выходя с генотерапевтическими подходами на рынок, где присутствуют другие формы терапий, разработчик сталкивается с высокой конкуренцией со стороны бигфармы, более жёсткими требованиями регулятора и т. д.
— Заинтересована ли бигфарма в развитии генотерапевтических технологий?
— Есть такое выражение: «Не можешь победить революцию — возглавь её». Глобальные компании часто практикуют этот принцип. Например, покупают стартапы, которые могут навредить их бизнесу, и кладут технологию на полку. Возможно, к ней когда-то вернутся, но только после того, как она будет интегрирована внутри собственной линейки продуктов. Так большие компании убивают двух зайцев: устраняют своего конкурента и выращивают конкурента другим. Яркий пример подобного поведения — сдерживание развития цифровой ПЦР-диагностики американской компанией Bio-Rad. Она создала собственную технологию, но небольшая компания Raindrops вывела на рынок технологию гораздо эффективнее. Тогда Bio-Rad поглотила её со всеми патентами, а технологию заморозила, продолжая продавать собственный не столь совершенный продукт.
Самое известное поглощение на генотерапевтическом рынке — покупка компанией Novartis создавшую препарат Luxturna компанию Spark Therapeutics. Но это пример со знаком плюс: покупатель продолжил развивать продукт.
— Но теоретически поглощение стартапов в генной терапии бигфармой может тормозить развитие новых разработок?
— В целом поглощения на ранней стадии могут быть вредны для развития технологии. Лучше, если сделка происходит, когда препарат уже выведен на рынок. В этом случае поглощение даст разработчикам доступ к широкой дистрибьюторской сети фармкомпании. Что могло произойти с компанией Moderna, если бы бигфарма купила её на самом раннем этапе? Она бы не стала той Moderna, которую мы сейчас знаем. Основатель продал не генеральные патенты, а лицензии на технологию, в результате бигфарма так финансово укрепила компанию, что та смогла начать новые проекты.
Если бы Moderna была продана на начальной стадии, это затормозило бы развитие технологий модифицированных РНК. Уверен, что в этом случае и у Pfizer не получилось бы собственной вакцины от COVID-19 на основе модифицированной РНК, потому что на рынке не было бы конкуренции, стимулирующей развитие технологии.
— Почему тогда разработчики идут на сделки с большими компаниями?
— Создание генотерапевтических препаратов стоит в среднем 50–70 млн долларов с учётом этапа клинических испытаний первой фазы. И у разработчика нет гарантии возврата вложенных средств. Работая только в одной стране, даже такой большой, как Россия, инвестиции окупить нельзя. Аудитория невелика: орфанные пациенты составляют 3–6 % населения, к тому же практически все они будут пролечены в рамках клинической фазы. Поэтому стратегия для таких препаратов — выход на мировой рынок. А для этого нужен большой партнёр.
— Каким образом развиваются подобные проекты в мире?
— В США придумали отличную систему ваучеров. Если компания вывела на рынок препарат из определённого перечня (в него входят вакцины, генная терапия, препараты для редких орфанных заболеваний и многое другое), то получает ваучер, который позволит воспользоваться процедурой быстрой регистрации в FDA. Это похоже на ускоренное прохождение досмотра в аэропорту. Вас тоже проверяют, при этом вы не стоите в безумных очередях.
Ваучер позволяет сэкономить от года до двух лет на бюрократических процедурах, что важно в условиях гонки фармкомпаний за лидерство. Одобрение препарата FDA гарантирует выход на международные рынки – скорее всего, он легко пройдёт все процедуры в европейском регуляторе EMA, на рынке Латинской Америки, в других регионах.
Регистрация генотерапевтических препаратов и так проходит по процедуре fast track, то есть в ускоренном режиме, но ваучер всё равно приносит большую пользу разработчикам: его можно продать другим компаниям. Это стимулирует развитие генотерапевтических препаратов в Соединённых Штатах, предоставляет небольшим компаниям возможность отбить затраты на разработку препарата и вложить средства в новые продукты.
— Существуют ли в США государственные программы поддержки разработчиков?
— Помимо того, что генотерапевтические препараты всегда регистрируются по ускоренной процедуре, FDA на ранних стадиях создания препарата может консультировать разработчиков. Сотрудники регулятора отвечают на все вопросы и поясняют, как правильно провести конкретную фазу исследования. Для регулятора это большая ответственность, потому что на его ответы разработчик может ссылаться в следующей фазе.
В России, к сожалению, такой отлаженной системы нет.
— Сколько в среднем занимает разработка генотерапевтического препарата?
— Разработка одного из первых препаратов — Luxturna для лечения дистрофии сетчатки — длилась не менее 15 лет. Создателям этого лекарства повезло: на этапе доклинических исследований они нашли крупные животные модели — собак, у которых была обнаружена аналогичная генетическая мутация. Глаз собаки сравним по размеру с глазом человека, хотя у него немного другая физиология. Испытания на животных позволили представить в FDA убедительные доказательства для допуска препарата к стадии клинических исследований.
Напомню, что всплеск интереса к разработке генотерапевтических препаратов в США пришёлся на 1990-е годы. Но потом из-за летальных исходов во время некоторых клинических исследований случился десятилетний спад. Поэтому FDA очень осторожно относилось к таким разработкам. Сейчас с учётом fast-track-процедур срок проведения доклинических исследований может составлять 5–7 лет.
— Возможно ли ускорение процесса?
— Сократить его позволят разработки IPS-моделей* исследований. Суть их в том, что дифференцированные клетки преобразуются в эмбрионоподобные, то есть подобные клеткам на стадии бластоцисты во внутренней клеточной массе. На этих моделях можно проводить ряд экспериментов, доказывающих функциональность или нефункциональность той или иной терапии. В перспективе IPS-модель позволит уйти от проведения исследований на животных и существенно сократить срок доклинических исследований. Пока регулятор на такой шаг не готов, но это вопрос времени.
Во время клинических исследований генотерапевтических препаратов пролечивают значительную часть всех имеющихся пациентов. Здесь нет стандартной первой фазы клинических испытаний, проводящейся с участием здоровых добровольцев, — вы сразу начинаете лечить больных. Поэтому необходимо понять, сколько нужно наблюдать пациентов до завершения клинических испытаний, ведь это можно делать в течение всей их жизни. Но разработчикам предстоит утвердить с регулятором разумный срок. Думаю, клинические испытания для этой группы препаратов должны занимать не более 3–5 лет.
— Как в США финансируется генная терапия для пациентов, не участвовавших в клинических исследованиях?
— Базовый вариант медицинской страховки американца не покроет даже малую часть расходов на генную терапию. Она доступна только обладателям самых дорогих программ, да и то есть нюанс: затраты на лечение покрываются только в том случае, если заболевание было выявлено после приобретения страховки.
Пока случаев покрытия стоимости лечения генетических заболеваний не так много, это ограниченный перечень нозологий, и страховщики с этим мирятся. Но с развитием генной терапии таких случаев будет больше, ведь, по разным оценкам, в мире от 2 до 7 % людей страдают от генетических заболеваний. Поэтому страховые компании становятся главными драйверами развития их диагностики.
— Каковы перспективы генной терапии в России?
— Ключевая проблема развития генотерапевтических разработок в России — коммуникация с регулятором. Из-за неё нельзя рассчитать ни объём инвестиций, ни количество лет, которые потребуются для разработки и вывода препарата на рынок. А такая неопределённость недопустима для потенциальных инвесторов.
Фактически эту сферу до сих пор регулировал один нормативный документ — Федеральный закон № 180 от 23 июня 2016 г. «О биомедицинских клеточных продуктах». Сейчас в связи с созданием единого рынка ЕАЭС ему на смену пришёл аналогичный закон Союза. Но к нему пока нет подзаконных актов, поэтому ни одна компания не прошла регистрацию по нему.
Осложняет ситуацию также отсутствие на стороне регулятора профессионалов, с которыми производители могли бы поговорить на одном языке. Поэтому регулятор не хочет брать на себя ответственность и действует в основном в режиме запрещения.
— То есть российскому разработчику выгоднее развивать свою технологию на зарубежных рынках?
— Любому разработчику важна прозрачность, а в России её сейчас нет. Ещё один аргумент против разработок в России: всё, что вы сделаете в России, скорее всего, и будет реализовываться в России. Вы не сможете сразу получить одобрение FDA или EMA и расширить рынок сбыта.
* Induced pluripotent stem cells, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки